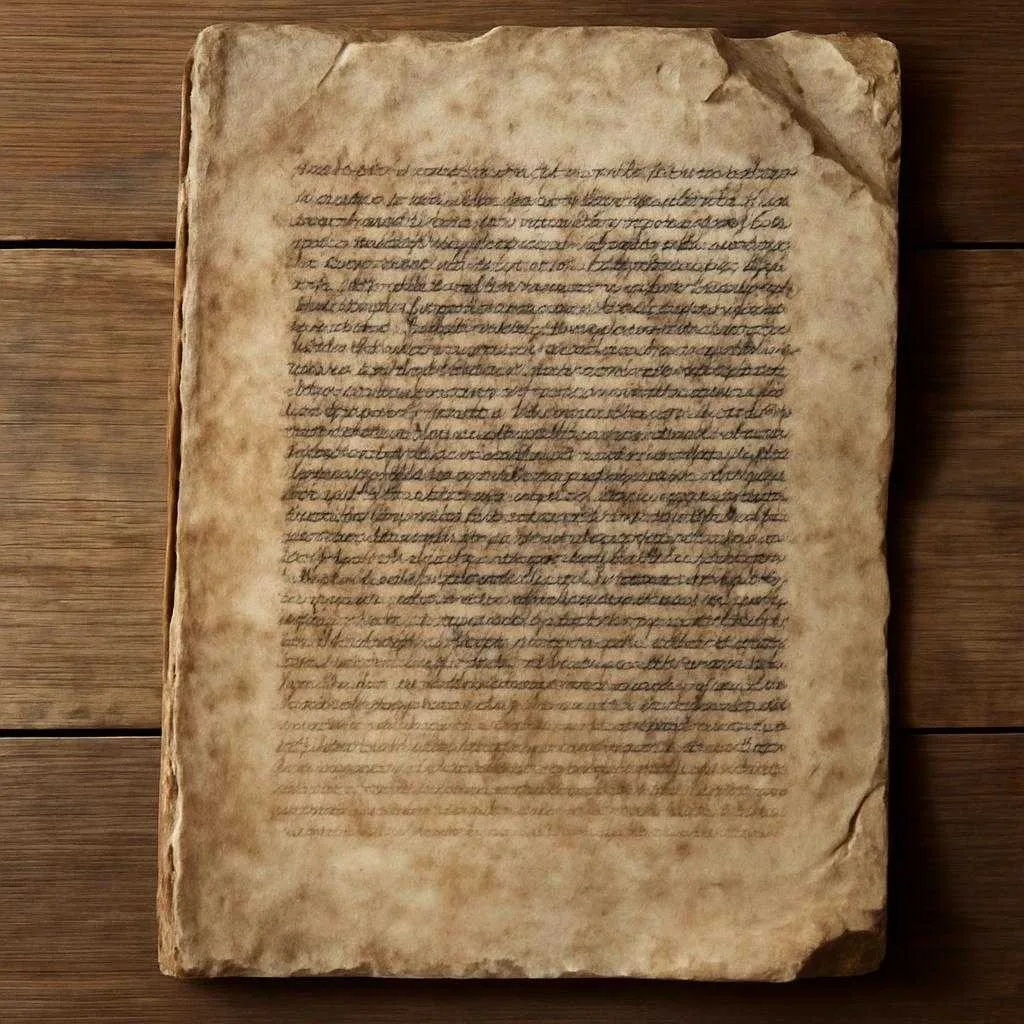Я наблюдал «Стаю» на экране как этнограф над безмолвной равниной: каждый элемент картины складывался в идеограмму орудий человека против природы, а природа отвечала полифонией хищного дыхания. Режиссёр Жюст Филипп отказывается от милосердной дистанции, вплетая документальную шероховатость в нерв вымышленного повествования. Ритм крупного плана здесь гулкий, как колокотун — старинный деревянный ударный инструмент, отпугивавший волков в сельских общинах. Фильм живёт за счёт трения между первобытным страхом и технократической самоуверенностью героев, готовых возделывать землю на крышах парижских небоскрёбов.

Сюжетный нерв
Эколог-энтузиаст Виржини выводит съедобных саранчовых в ангаре, надеясь накормить будущий мегаполис бесплотным белком. Уравнение питания, казалось, решено, однако триггер катабазиса — внезапная вкусовая жажда кровью. Саранчовые, поглощая друг друга, достигают эффекта эволюционного «форсажного дрейфа», вызывая у зрителя ощущение апокалиптической камерности: апокалипсис локализован в трёх локациях, будто в чердаке греческой трагедии. Сюжет повышает градус постепенно, опираясь на «заклинание пространства» — приём, при котором интерьер трансформируется в живой организм, стены ангара дышат, лампы пульсируют, бетон прописывает граффити из тени насекомых.
Визуальные решения
Оператор Роман Блан заботится о ритме контрасте: пыльный янтарь складского света сталкивается с малахитовой прохладой ночного неба. Камера движется по синусоиде — поднимается к потолку, падает в руку Виржини, фиксирует дрожь кожи, зрительный нерв зрителя не имеет возможности восстановиться. Применён «фокус кристаллизации» — оптика переводится в экстремальный макро-режим, демонстрируя хитиновый панцирь хищника с блеском никеля. Этот приём напоминает стробископию Лужина — технику из советской научно-популярной школы, где микромир подменял галактику. Ужас здесь возникает из соотношения масштабов. При переходе к семейным сценам цветовая палитра гасится, будто asperitas на небе — волнообразное облако, предвещающее бурю. Герои меркнут, когда колония зреет.
Звук и тишина
Композитор Николя Эльшир строит партитуру на принципе «страментум» — латинское название шумового слоя, применённое им к шороху крыльев. Шелест насекомых складывается в дроун, который плавится с контрабасовыми флажолетами. Музыкальная фраза практически отсутствует, вместо мелодии — пульсация, напоминающая сердцебиение в эхограмме. Когда Виржини принимает кровавую сделку с собственной совестью, саунд-дизайн уходит в антифонию: детский плач оборачивается жужжанием, а жужжание мигрирует в урбанистический гул кольцевой автодороги. Тишина, возникающая после пика тревоги, плотна, словно «тиннитус сакры» — субъективный звон, описанный монастырскими летописцами при сильной внутренней молитве. Эта пауза держит кадр, пока зритель замер в удушающем предчувствии.
Этический контур, культурный отклик
Картина вписывается в линию «экотриллера нового европейского рубежа», где хищник формируется из наивных утопий. Вдохновение просматривается у «Фазы IV» Солсаца и «Паразита» Сонг Джун-хо, однако «Стая» шагает дальше, обнажая конфликтёл проживания: симбиоз, выводимый Виржини, оборачивается трансмутацией самой хозяйки. Фемюность героини не гипертрофирована, напротив, авторы показывают, как альтруист превращается в элементов табуированной пищевой цепи. Лента будоражит дискуссии в аграромедийных кругах, ведь насекомое в рационе оказывается не только предметом гастрономического спора, но и ритуалом. На фестивале в Жерармере картина получила Приз критики за «гангренофонию» — новое слово, введённое жюри для обозначения звука, подтачивающего мораль.
Работа актрисы Сула Ндун восхищает «телесным резонансом»: её глазные мышцы реагируют на невидимый рой раньше, чем камера ловит тень насекомого. Ребёнок Рафаэль Романди демонстрирует обратный вектор — ступор распознаётся только в мимике. Такой ансамбль усиливает тему «парадокса симбиотического одиночества», исследуемого культурологом Мари Тотти в трактате о новых семейных формах.
Фильтр жанров подмигивает зрителю, приглашая к расшифровке: тут и психоделический боди хоррор, и социальная драма, и аллегория о хрупком балансе техносферы. При финальном титре зрительный зал слышит отзвуки когнитивной итумы — внезапного чувства присутствия другого мира, описанного психологом Шварцем.
Картина «Стая» напоминает литографию, выполненную острым стеклом: линии безжалостны, шаг в сторону — порез. Я выхожу из кинозала с ощущением, будто хитиновое крыло лежит в кармане — суеверный сувенир, воплощающий вызов самодовольному антропоцентризму.