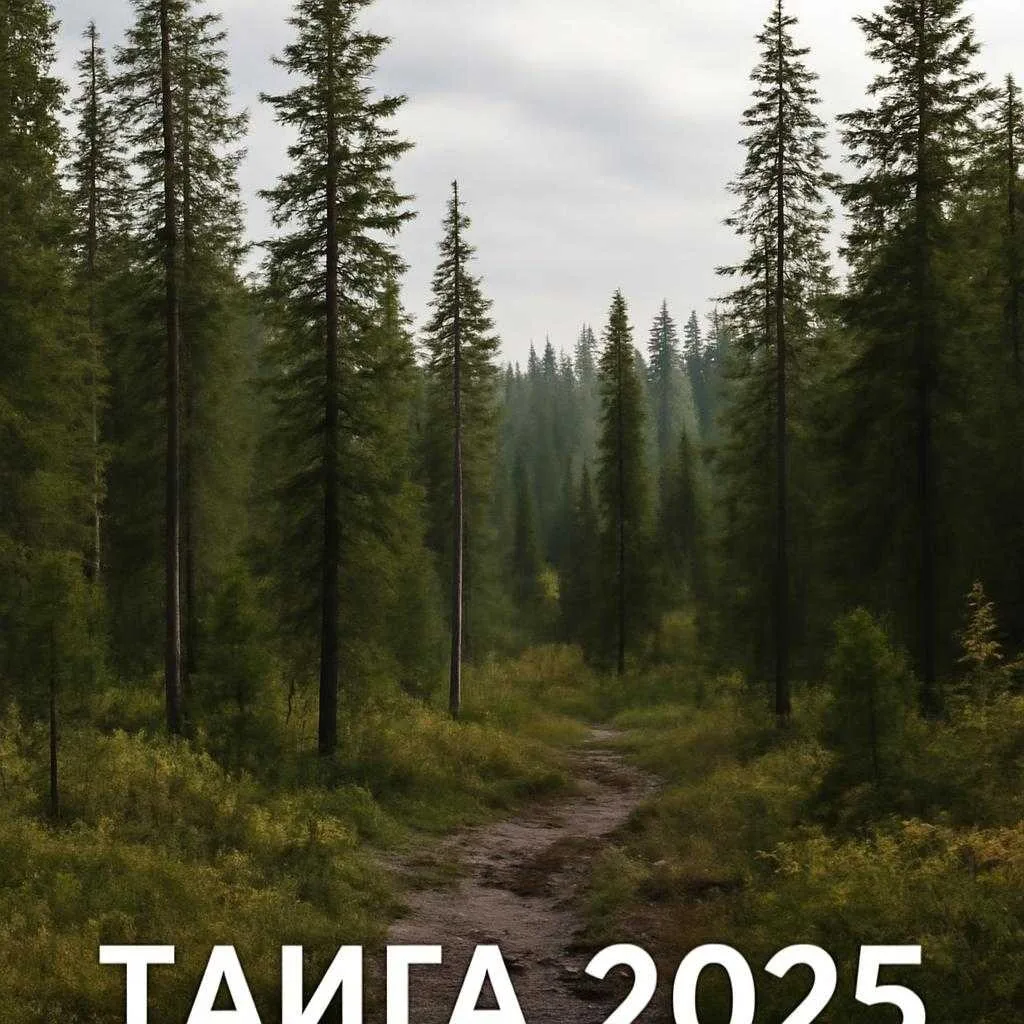Фильм Кирилла Кирсанова «Первый клон» погружает зрителя в камерный мир лабораторного комплекса, где инженер-бионик Полина Соколова предпринимает дерзкий эксперимент: выращивает собственный генетический дубликат. Я воспринимаю картину как хронограф внутреннего распада, маскирующегося под футуристическую утопию. Авторский почерк перемещает акцент с традиционной киберпанковой атрибутики на личностную драму, выстроенную через контрапункт матери-копии.
Сюжетный вектор
Кирсанов строит действие без рваного монтажа, вместо обычных пиксельных фейерверков — медитативные длинные планы. Нарратив работает приёмом калейдоскопической анALEPSЫ — обратных вспышек, раскрывающих прежнюю травму героини: гибель сестры-близнеца. «Клон» выступает псевдонимом исцеления, но итогом становится пуантилистичная мозаика воспоминаний и ревности. Диалоговый текст минималистичен, значимую долю экспозиции выполняют так называемые гаптические кадры, когда камера фиксирует кожу, деталь микропряжки, срез ногтевой пластины. Подчёркнутая тактильность визуализирует неразличимость оригинала и репродукции.
Визуальный код
Оператор Максим Кайгородов использует редкую панхроматическую плёнку: эмульсия реагирует на ультрафиолет, придавая биолабораторным лампам фосфоресцирующее сияние. Переэкспонированные белые пятна символизируют стерильность, но одновременно затмевают глаза персонажей, словно у них выкрали душу. Костюмы Ольги Горячевой вобрали мотивы биокоутюра: полупрозрачные мембраны этическое воспоминание о человеческой коже. Пространство делится на три цветовых доминанты: холодный изумруд — зона исследований, приглушённый сепия — домашний быт, инфракрасный алый — когда клон обретает самосознание. Такой цветоврат (термин бельгийского теоретика Делу о смене доминант) разворачивает траекторию утраты контроля.
Музыкальная топика
Саундтрек композитора Яна Миронова избегает стилизованной электроники и строится на стеклянных сонористических кластерах, записанных изнутри водопроводных труб, при помощи контактовых микрофонов автор выудил микрошуми тока воды. Темп задан сердечным ритмом 62 уд/мин — у одного из дублей Полины наблюдается брадиаритмия, из-за чего каждая музыкальная фраза словно запаздывает на полуполсчёта. Главный лейтмотив — инкрустация тетрахорда Лидийского лада на фортепиано, но ноты G и A подменены микротонами ±14 центов, что вызывает ощущение «расстроенного дежавю». Звуковая палитра обнажает невралгию идентичности.
Роль актёров
Мария Чурикова воплощает дуализм Полины с хирургической точностью. Фехтовальная пластика рук, отточенная под присмотром хореографа-функционалиста Исы Рафаэля, подменяет классический психологизм. Вторую, «постоянную» Полину актриса играет без голоса: реплики дублируются синтезатором вокодера, что подчёркивает субфебрильность её человеческого статуса. Максим Ефремов, исполнивший коллегу-программиста Сергея, вынес персонажа на уровень катализатора: герой наблюдает, фиксирует, регистрирует, но не вмешивается, превращаясь в немой хор, подобный аттическим прототипам.
Этическая проблематика
В центре дискуссии — вопрос об «ontic purity» (французский философ Бодрийяр применил термин к симулякру третьего порядка). Когда клан узнаёт о миссии самоисследованиевания, внутренняя хронотопия ломается: дубликат ищет утешение в цитатах классики, ставит грампластинку Гурджиева, пытаясь осознать ощущение «давления бытия». Гуманитарный круг вопросов выполнен без назидания: режиссёр предлагает феноменологический ракурс, где понятие «биофилия» обретает ловкий зигзаг. Не случайно в финале Полина, наблюдая за клоном через фотохромную перегородку, отказывается от уничтожения проекта, хотя финансисты ожидают отчёта. Последний кадр обрывается на дыхании, оставляя зрителя внутри аксиологического полиморфа.
Место картины в контексте
«Первый клон» вышел в пандемийный год, когда кинотеатры работали с интервальным режимом, однако нашёл зрителя на фестивале «Talos Vision» в Регенсбурге и получил приз им. Фассбиндера «За радикальную интимность кадра». В пост-коммерческой шкале российского кинематографа лента приблизилась к андерграундному «Чёрному свету» Агутина (2018) и «Фотоплазме» Лященко (2020), формируя триаду телесных антиутопий. Тем не менее критика разделилась: поклонники классического нарратива усмотрели «недостаток событий», культурологи отметили кинестетическую эстетику akinетики (неологизм белорусского теория Дрозда о движении без движения).
Режиссёрская стратегия
Кирсанов ориентируется на принцип «открытого кадра» Жиля Делёза: предмет частично выведен за поле зрения, зрителю предоставлен гипногогический простор для догадки. Угловая оптика 28 мм вызывает лёгкий «баллонный» эффект, и лица персонажей кажутся одновременно близкими и далёкими, словно смотришь через смоляное стекло. Время в фильме субъективно: длинный бессюжетный план c клоновм, читающим стихотворение Хлебникова под ультрафиолетом, тянется шесть минут, но воспринимается как краткий пульс. Я связываю подобный монтаж с приёмом дилейсиса — музыкальной задержкой, нoтируещей отсутствие звука, что поздний Шнитке внедрял в партитуры.
Философские аллюзии
Внутренняя дискуссия ленты взращена на почве биоэтики, а ещё на античной идее «хрисалидного тела» (Плотин назвал так форму души, скрытую в коконе плоти). Полина, создав копию, словно выворачивает кокон и обнажает полую структуру собственного «я». Жанровую оболочку кибердрамы режиссёр пронизывает вопросами экзоморалитета: клон вправе перезаписать личную память или обязан хранить оригинальный травматический код? Ответа не даётся, вместо него — пауза, схожая с «тихим каденсом» в финале сонаты.
Кино музыкальная симбиозность
Грамотно выстроенное соотношение изображение/звук подтверждает концепцию «двойного тела» — теорию французского композитора Дюре о парном тембре. В сцене встречи оригинала и копии камера двигается по спирали, а арфовые глиссандо Фа-до-си дублируются бас-кларнетом с задержкой 370 мс, создавая микропространство между двумя голосами. Радикальная акустика приводит зрителя к эффекту соматического резонанса: дрожит подъязычная кость, поскольку частотный диапазон 60–80 Гц попадает в зону физиологического отклика. Так кино становится аудиофагической скульптурой.
Социальная перспектива
Фильм вошёл в общественный дискурс о легитимности клонирования: после показов состоялись дискуссии с участием биоинформатиков и теологов. Публика впервые услышала термин «паспорт сомы» — комплект метаданных клона, которым предполагается заменить бумажный документ. Картина ускорила принятие пилотного этического протокола для VR-симуляции сознания, утверждённого на заседании ООН по биоциям. Подобная связка искусства и законодательной реальности свидетельствует о возросшей роли созерцательного высказывания в трансформации нормативных рамок.
Заключительный ракурс
«Первый клон» функционирует как оптически-акустический эссе-граф, зондирующий пористость человеческой идентичности. Отказ от привычных эффектов трансформирует научно-фантастический материал в герметичную опера-вербатим, где каждая пауза важнее диалога, а каждый световой пиксель тяжелее декорации. Показывая лабораторное безмолвие и электрические вздохи нового существа, Кирсанов высекает на киноленте вопрос: где проходит граница, если суставной хрящ уже изготовлен на принтере, а память загружается быстрее, чем нервы успевают почувствовать боль? Я покидаю зал с ощущением, что именно это не мой электрический плач и предвосхищает грядущий горизонт антропологии.